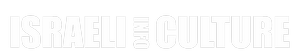Заглавная иллюстрация: Петр Глузберг. Цитадель Давида
Наша вечная столица: Иерусалим в израильском искусстве. Выставка в Музее им. Моше Кастеля в Маале-Адумим
Алек Д. Эпштейн, куратор Музея им. художника Моше Кастеля в Маале-Адумим
На протяжении многих столетий жизни в диаспоре евреи в разных странах не раз повторяли: «В следующем году – в Иерусалиме». Само слово «сионизм» как название национального движения, начертавшего на своих знаменах идею воссоздания еврейской государственности именно в Палестине/Эрец-Исраэль (а не в Уганде, Биробиджане или где-то еще), происходит от горы Сион, находящейся, как известно, в Иерусалиме.
Формирование образа Иерусалима в эрец-исраэльской живописи началось столетие назад, в 1920-е годы. В прежние времена художники-паломники из христианских стран, оказавшись в Иерусалиме, фокусировали свое внимание на местах, связанных с земной жизнью Иисуса. Тогда как основоположники Школы искусств и ремесел «Бецалель» (она была названа в честь библейского персонажа Бецалеля Бен-Ури [в русской традиции Веселеила] – резчика по металлу, камню и дереву, создавшего Ковчег Завета) не столько запечатлевали Иерусалим, каким он был в реальности, сколько силой воображения воссоздавали его образ на фоне великих событий иудейской истории. Лишь в 1920-е годы Реувен Рубин, Нахум Гутман, Исаак-Александр Френкель (Френель) и Людвиг Блюм заложили основы восприятия Иерусалима еврейскими художниками.
Интересно, что Реувен Рубин жил в Иерусалиме всего лишь несколько месяцев после своей иммиграции в Палестину/Эрец-Исраэль в 1923 году, а Нахум Гутман бывал в городе наездами (за исключением короткого периода учебы в школе «Бецалель»). Центром их жизни был Тель-Авив. Исаак-Александр Френкель (Френель) жил и работал в Иерусалиме, пока был связан с «Бецалелем», – до 1929 года. Затем отправился в Париж. А вернувшись оттуда спустя пять лет, вновь поселился в Святом городе и прожил там два года, после чего перебрался в Цфат, где позднее стал одним из основателей Квартала художников. Единственным из этой четверки, кто прожил в Иерусалиме всю жизнь с момента иммиграции в Палестину/Эрец-Исраэль в 1923 году и до своей кончины в 1974 году, был Людвиг Блюм. Только он один вошел в историю как иерусалимский художник, но канонический образ «вечной столицы» в израильском искусстве формировали все четверо. При этом у каждого из них был свой, весьма самобытный взгляд на Святой город.
Уроженец Румынии Реувен Рубин, успевший к тому времени пожить и поработать и во Франции, и в США, начиная с 1924 года, создал целую серию иерусалимских пейзажей. Он вписал город в сугубо левантийский контекст: его Иерусалим не ограничивался отдельными зданиями, и в нем практически отсутствовали новые районы, основанные евреями вне стен Старого города. Трудно даже поверить, что эти картины написаны в 1920‑е – 1930‑е годы, – они вполне могли быть созданы столетием раньше.
Иерусалим Реувена Рубина – город не еврейский и не христианский, а сугубо ближневосточный: он окружен бескрайними пустынными холмами, на которых растут оливковые деревья, а по дорогам не ездят машины, но ходят верблюды. На его картинах над Иерусалимом всегда светит солнце, в городе не бывает пасмурно и никогда не идет дождь. С какой бы точки Реувен Рубин ни писал Иерусалим, он всегда видел и изображал Старый город, но на его полотнах почти совсем не видно людей – и это несмотря на то, что население Иерусалима в те годы существенно превышало сто тысяч человек, причем демографически евреи составляли численное большинство. В наши дни в похожем ключе работает художник Иехуда Армони, создавая импрессионистские пейзажи мест, где многонациональная и многоконфессиональная история Иерусалима просто «дышит» с его полотен, на которых, однако, вообще нет людей.

Иехуда Армони – Монастырь Св. Креста и Израильский музей в Иерусалиме, 2025 г. (холст, масло, 50х70 см). Собрание автора, экспонируется на выставке
Хотя в беспорядках, вспыхнувших в начале апреля 1920 года в Иерусалиме, были убиты пятеро евреев и четверо арабов, а около двухсот пятидесяти человек были ранены, на полотнах Реувена Рубина, созданных считанные годы спустя, нет ни намека на какой бы то ни было межнациональный конфликт. От его Иерусалима веет умиротворенностью и гармонией, которые никем и ничем не нарушаются.
Иерусалимские пейзажи Реувена Рубина 1920‑х годов очень похожи на его работы, созданные в те же годы в Галилее, но если Цфат и гора Мирон на картинах художника заполнены религиозными евреями, то в Иерусалиме, где представители той же группы составляли большинство населения, их не видно совсем. Художнику важно было «вписать» Святой город в окружавший его пейзаж, который он представлял максимально идиллическим. Иерусалим Реувена Рубина – словно «городок в табакерке», воздушный и сказочный – существует вне каких бы то ни было политико-дипломатических противостояний.
Таким город выглядит даже на полотнах, написанных в 1950‑е годы, когда Иерусалим, пережив тяжелейшую Войну за независимость Израиля, стал разделенным городом, а его западная часть – столицей Государства Израиль. Поистине удивительно, что эти работы созданы еврейским художником, которого сионистская идеология привела в только что ставшую подмандатной Палестину/Эрец-Исраэль именно тогда, когда эта страна была еще далека от достижений современной цивилизации.
Не будет преувеличением сказать, что, хотя Реувен Рубин всю жизнь создавал лишь фигуративные, а отнюдь не абстрактные картины, их фигуративность была сугубо абстрактной и ни в коей мере не отражала ни реальную повседневную жизнь, ни облик Иерусалима и его окрестностей.
В отличие от Реувена Рубина, переселившегося в Палестину уже сложившимся мастером, Нахум Гутман иммигрировал туда вместе с родителями, когда ему было всего семь лет. В 1913 году он поступил в Школу искусств и ремесел «Бецалель», и именно там начал формироваться его художественный почерк.
Достаточно длительное – на протяжении шести лет – пребывание в Европе (он успел пожить в Вене, в Париже, в Берлине) оказало на Нахума Гутмана значительное влияние. Однако важно подчеркнуть, что, в отличие от Реувена Рубина, Нахум Гутман не смотрел на Иерусалим и его окрестности зачарованным взором европейского пилигрима – для него это были пейзажи, знакомые с детства и исхоженные вдоль и поперек в отроческие годы.
Самое значительное полотно Нахума Гутмана, посвященное Иерусалиму, было написано им после возвращения из Европы. Эта картина примечательна тем, что в существенной мере представляет собой почти монохромную гризайль. Башня Давида и стены Старого города, изображенные оттенками серого, громадой вечности возвышаются над Иерусалимом, его зданиями и людьми с их повседневной жизнью. Иерусалим Реувена Рубина воздушен и невесом. Иерусалим Нахума Гутмана – символ земной твердыни, всего самого незыблемого и вечного, что только может быть в этом мире.
Не забудем, что в 1921–1928 годах в Башне Давида проходили художественные выставки, – фактически это было основное на тот момент пространство для организации экспозиций в городе. Как вспоминал Реувен Рубин, идея превратить здание в выставочное пространство принадлежала британскому губернатору Иерусалима сэру Рональду Сторрзу (1881–1955). Тот поручил художнику привлечь к этой деятельности живописцев, которых он посчитает достойными. Среди тех, чьи произведения экспонировались в Башне Давида, были ведущие эрец-исраэльские художники того времени, в том числе Иосиф Зарицкий, Барух Агадати, Пинхас Литвиновский, Циона Таджер, Арье Любин и другие. Насколько известно, сам Нахум Гутман участвовал в выставке в Башне Давида всего один раз – в апреле 1928 года.
Исаак-Александр Френкель (Френель) прибыл в Палестину/Эрец-Исраэль с Украины в 1919 году, когда ему было 20 лет. В отличие от Реувена Рубина и Людвига Блюма, он впервые увидел Иерусалим раньше, чем любую европейскую столицу.

Исаак-Александр Френель – Иерусалим (холст, масло, 80×100 см). Частное собрание, экспонируется на выставке
Исаак-Александр Френкель вырос в более традиционной еврейской семье, чем Реувен Рубин и Людвиг Блюм, и в Палестине/Эрец-Исраэль искал знакомую ему среду. Тель-Авив, хоть и был тогда бесконечно далек от того космополитичного мегаполиса, каким он стал в настоящее время, всё же не был городом, где чувствовалось дыхание иудаизма. Однако именно это дыхание Исаак-Александр Френкель старался найти – и в итоге нашел в еврейских религиозных кварталах Иерусалима и Цфата. Героями иерусалимских картин художника были люди, которых не увидишь на полотнах Реувена Рубина или Нахума Гутмана: раввины, обнимающие свитки Торы, хасиды, пляшущие на свадьбах, ученики иешив, спешащие на занятия или молитву по узеньким улочкам Старого города.
В 1929 году Исаак-Александр Френкель на пять лет покинул Палестину/Эрец-Исраэль, а в 1934 году вернулся из Парижа в Иерусалим, переполненный творческими впечатлениями. Разочаровавшись в эстетике «Бецалеля», он стремился создавать художественные произведения, которые не выглядели бы эстетически архаичными в сравнении с работами живописцев так называемой Парижской школы того времени. Однако фокус интереса и угол зрения художника не изменились. В то время как Реувен Рубин пытался запечатлеть воздух Иерусалима, а Нахум Гутман – его незыблемость и твердыню, Исаак-Александр Френкель писал «город людей» и «людей города», всё внимание акцентируя не на обновлении, вызванном сионистской иммиграцией (неотъемлемой частью которой был, кстати, и сам художник), а на историко-духовной преемственности, когда из поколения в поколение по одним и тем же улочкам, мимо одних и тех же камней евреи Иерусалима спешат по одним и тем же делам.
Художником, воспевавшим Иерусалим на протяжении полувека, был уроженец города Брно в Моравии (тогда входившей в состав Австро-Венгерской империи) Людвиг Блюм (1891–1974). Среди девяти детей в доме Людвиг был седьмым, причем, в отличие от многих окружающих семей, Блюмы и по отцовской, и по материнской линии жили в Моравии на протяжении многих поколений. Людвиг вырос в благополучной во всех смыслах семье. Родители поддерживали его интерес к рисованию, он учился в Вене, а с октября 1919 года, после демобилизации из армии (он находился в войсках на протяжении всех четырех лет Первой мировой войны), – в Академии изобразительных искусств в Праге.
Однако Первая мировая война наложила тяжелейший отпечаток на его семью: шурин и старший брат Людвига Блюма погибли на фронте, другой брат надолго оказался в плену, а самый младший был ранен. Эта трагедия подорвала веру Людвига Блюма в мирное будущее Европы, которую он решил покинуть. Будущая супруга художника Дина (урожденная Клементина) Майер прибыла в Палестину/Эрец-Исраэль из Германии еще в 1914 году, тогда как сам Людвиг – в 1923. Их свадьба состоялась 11 марта 1924 года в Иерусалиме. А в следующем месяце в Башне Давида открылась Третья ежегодная выставка иерусалимских художников, где картины Людвига Блюма получили столь высокую оценку, что ему было предложено провести персональную экспозицию, которая состоялась там же несколько месяцев спустя.
В Иерусалиме в то время не было художественного рынка, который мог обеспечить живописцу и его семье (в октябре 1924 года у Людвига и его супруги родилась дочь Двора, а в сентябре 1926 года – сын Элияху) достойный заработок. Поэтому, пока это было возможным, Людвиг Блюм организовывал свои выставки в Брно (1925), Амстердаме и Берлине (1929), а в 1930‑е годы – в Лондоне, причем дважды, и жил с продажи картин в этих городах. Важно при этом отметить, что основной темой его работ был именно Иерусалим. И когда художник получил приглашение принять участие в выставке, прошедшей в 1938 году в Королевской академии художеств в Лондоне, то и туда он представил панорамное полотно «Вид на Иерусалим с Масличной горы» (авторское повторение этой картины находится на постоянной экспозиции в резиденции президента Государства Израиль).
Людвиг Блюм оставался в Палестине/Эрец-Исраэль на всем протяжении Второй мировой войны. В 1944 году в Иерусалиме прошла уже третья его персональная выставка.

Людвиг Блюм – Рынок в Старом городе, Иерусалим, 1931 (холст, масло, 49х60 см). Частное собрание, экспонируется на выставке
В 1946 году в семье Блюмов случилась страшная трагедия: сын художника присоединился к одной из еврейских боевых подпольных организаций и погиб в ночь с 16 на 17 июня вместе с двенадцатью своими товарищами. Эта трагедия драматичным образом повлияла на жизнь и творчество Людвига Блюма. Художник, до этого работавший почти исключительно в жанре городского пейзажа, начал одержимо писать портреты юношей-подпольщиков, солдат, а затем и виды разрушений, которые, в связи с гражданской войной между евреями и арабами (она началась в Иерусалиме сразу же после принятия Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года Декларации о разделе Палестины), были весьма значительными.
Отнюдь уже не молодой живописец (в 1948 году Людвигу Блюму исполнилось 57 лет) получил от командира расквартированной в Иерусалиме пехотной бригады «Эциони» специальный пропуск, позволявший ему посещать любые военные объекты и зарисовывать их и тех, кто на них находился.
Среди ценителей творчества Людвига Блюма был и последний британский верховный эмиссар в Палестине генерал Алан Каннингем. Он даже приглашал художника писать картины в собственную резиденцию в районе Восточный Тальпиот, откуда открывалась чарующая панорама Старого города. Завершая свою работу в Палестине, генерал Каннингем предложил живописцу, уже получившему от мандатных властей британский паспорт, переселиться в Лондон, обещая ему помощь и содействие. Людвиг Блюм поблагодарил генерала, но от предложения отказался, сказав: «Мое место – здесь».
Квартира и постоянная студия Людвига Блюма находились на улице Яффо в центре Иерусалима – в здании, построенном итальянской страховой компанией Assicurazioni Generali, но из-за военных действий этот дом ему пришлось покинуть. Новую мастерскую на улице Короля Георга V художник устроил уже после окончания Войны за независимость.
Людвиг Блюм был признан ведущим живописцем израильской столицы, его ретроспективные выставки прошли в Иерусалимском Доме художника в 1951, 1963, 1967 и 1973 годах. На протяжении ряда лет он являлся председателем Иерусалимского объединения художников, а в 1968 году был удостоен звания почетного гражданина Иерусалима. В 2014 году одной из улиц города было присвоено его имя.
В отличие от Нахума Гутмана, учившегося в «Бецалеле», Людвиг Блюм, как и Реувен Рубин, прибыл в Иерусалим уже сложившимся художником со сформировавшимся творческим почерком. Стиль его живописи однозначно укоренен в европейском искусстве последней трети XIX века. Более модернистские веяния оставляли Людвига Блюма равнодушным. Будучи реалистом в подлинном смысле слова, он тщательно отражал на своих полотнах то, что видел, не ограничивая себя исключительно натуралистической передачей окружавших его пейзажей.
Как и другие художники, Людвиг Блюм много работал в Старом городе: он писал Стену Плача, Купол Скалы, другие мечети на Храмовой горе, Храм Гроба Господня. Подобно Реувену Рубину, Людвиг Блюм создал ряд панорамных видов Иерусалима и много поработал в живописной деревушке Эйн-Керем в окрестностях города. Однако, в отличие от Нахума Гутмана, Реувена Рубина и Исаака-Александра Френкеля (Френеля), Людвиг Блюм запечатлевал и многие другие улицы и здания Нового города, и для него Иерусалим не ограничивался стенами, возведенными еще султаном Сулейманом Великолепным в 1530-е годы. На его картинах мы видим гору Сион и здание Большой городской синагоги, построенное в Иерусалиме в 1958 году, крыши района Ямин Моше и рынок Махане Иехуда… Художник запечатлел и состоявшуюся в Иерусалиме в 1964 году церемонию перезахоронения праха выдающегося общественного деятеля и литератора Владимира Жаботинского, скончавшегося почти за четверть века до этого в Нью-Йорке. В Людвиге Блюме Иерусалим обрел художника, который был готов принимать город таким, каков он есть, не пытаясь вписать его в мир своих религиозных убеждений или возвышенных фантазий.
Почти все художники, писавшие Иерусалим, чувствовали прикосновение к чему-то поистине великому. И это ощущение отражалось в их работах. Иерусалим возвышенный, сакральный, «небесный» находил свое выражение в искусстве куда чаще, чем Иерусалим земной, повседневный, обыденный, живущий той жизнью, которой живет любой город, независимо от того, является ли он источником вдохновения для приверженцев трех монотеистических религий или нет. Иерусалим Людвига Блюма – это динамичный город обычных людей, живущих среди святынь мирового значения, по соседству с ними, не очень задумываясь об этом и даже не всегда отдавая себе в этом отчет. Побывав во многих странах, Людвиг Блюм отовсюду возвращался в Иерусалим домой. Это чувство Иерусалима как живого города, своего дома, где будней всегда больше, чем праздников, Людвиг Блюм передал на своих полотнах так, как, пожалуй, никто из его предшественников и современников.
Хотя можно было ожидать, что Иерусалим станет непререкаемым духовным центром еврейского «государства в пути», а затем – и Государства Израиль, а его пейзажи займут центральное место в изобразительном искусстве, творимом еврейскими художниками в своем национальном государстве, это случилось лишь в малой степени, и данный феномен заслуживает вдумчивого осмысления. Причина этого явно не в том, что в ходе первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов большая часть Иерусалима, включая его Старый город, была отторгнута от Израиля на долгих девятнадцать лет, до июня 1967 года, и перешла под контроль Иордании. В конце концов, Иерусалим оставался безусловным центром иудейского мировоззрения на протяжении почти двух тысячелетий после разрушения Второго Храма, когда власть над Святым городом принадлежала всевозможным мусульманским и христианским правителям. А значит, существуют иные причины относительно периферийного положения Иерусалима в израильском искусстве.
Можно выделить несколько взаимодополняющих социально-демографических и культурологических факторов.
Во-первых, с точки зрения демографии Иерусалим в наименьшей мере представлял еврейское население, связанное с сионистским проектом воссоздания еврейской государственности. Вопреки тому, что принято думать, евреи, а отнюдь не арабы, составляли большинство населения Иерусалима даже на рубеже XIX–XX веков. Однако это были «другие евреи», – те, кого на иврите называли «старая община». В подавляющем большинстве своем то были ортодоксально верующие иудеи, жившие в Палестине/Эрец-Исраэль веками и никакого государства в ней не строившие. Их духовный мир был очень далек от взглядов «первопроходцев» (так они сами себя называли), которых принято характеризовать как «новая община». Это были евреи, которые иммигрировали в Палестину/Эрец-Исраэль начиная с 1881, а особенно после 1904 года, стремясь личным трудом способствовать созданию первого еврейского государства на Земле. Большинство этих переселенцев выросли в традиционных религиозных семьях, но сами при этом были весьма далеки от религии. Не будет большим преувеличением сказать, что Бога им заменил Карл Маркс, социалистическое учение которого было для них важнее, чем учение иудаизма.
Естественно, представлять всю «новую общину» социалистами было бы большим упрощением. Однако, как свидетельствуют выборы, прошедшие двенадцать раз на протяжении более чем полувека (начиная с самых первых, еще в 1920 году, в первый созыв общинного Собрания представителей, и до выборов в Кнессет восьмого созыва, состоявшихся 31 декабря 1973 года, включительно), именно партии социал-демократической ориентации устойчиво получали стабильное большинство голосов. Художники, прибывшие в Палестину/Эрец-Исраэль, были неотъемлемой частью этой социально-политической среды: практически никто из них не придерживался традиций ортодоксального иудаизма, а потому и образ жизни, доминировавший в еврейской общине Иерусалима, был для них чужим и чуждым.
Некоторые художники – прежде всего, Людвиг Блюм и Анна Тихо, – несмотря на всё это, до конца своих дней оставались в Иерусалиме, но большинство, в частности, Реувен Рубин, Исаак-Александр Френель, Иосиф Зарицкий и ряд других мастеров, покинув Иерусалим, перебрались в Тель-Авив (к тому же в 1950-е – 1970-е годы они обычно проводили несколько летних месяцев в Цфате). Им значительно ближе была более открытая светская среда Тель-Авива с ее насыщенной культурной жизнью, которая никак не зависела от религиозных ограничений.
Надо помнить также, что в Иерусалиме до 1968 года не было своего репертуарного театра, тогда как в Тель-Авиве театры появились еще в первой половине 1920-х годов, и художники могли найти там работу, разрабатывая дизайн костюмов и декораций. Кроме того, в Тель-Авиве еще в 1932 году был создан Музей изобразительных искусств, а начиная с 1936 года муниципалитет ежегодно вручал художникам премию имени Меира Дизенгофа. В Тель-Авиве находились также главное здание и руководящие органы Федерации профсоюзов. В период «государства в пути» и в первые десятилетия независимости Израиля эта организация занимала чрезвычайно значимое положение. Под ее эгидой не только работали школы искусств, где художники могли преподавать, – Федерация профсоюзов ежегодно вручала многим из них денежные премии.
В тель-авивских кафе сформировалась богемная среда, принадлежность к которой, несомненно, способствовала укреплению статуса входивших в нее художников. Создание и развитие новой ивритской культуры шли рука об руку с созданием и развитием самого Тель-Авива. Поэтому жить в Иерусалиме художникам долгое время было «невыгодно» как по общедемографическим, так и по профессионально-корпоративным причинам.
Хотя после объединения Иерусалима в 1967 году его статус как столицы Израиля, несомненно, вырос, город до сих пор так и не стал центром творческой жизни Государства Израиль. Единственный в стране оперный театр, как и единственный центр современной хореографии, носящий имя Сюзанны Деллал, находятся в Тель-Авиве, а число работающих там репертуарных театров вчетверо больше, чем в Иерусалиме. Флагман классической музыки страны – Израильский филармонический оркестр – дает в Иерусалиме десять концертов в год, а в Тель-Авиве более полусотни. В начале XXI века в Тель-Авиве была основана арт-ярмарка «Свежая краска». В Иерусалиме ничего подобного нет.
И, наконец, нужно принять во внимание стремление израильских художников интегрироваться в мировое искусство, в котором жанр городского пейзажа на протяжении, как минимум, последнего столетия не относится к числу доминирующих. Возникшая в Тель-Авиве в 1948 году группа «Новые горизонты» стала первой, но отнюдь не последней инициативой в культурной жизни Израиля, стремившейся в большей степени «покорить мир», нежели добиться популярности у израильского зрителя. Эстетика «Новых горизонтов» была основана на абстрактном экспрессионизме – стиле, мало подходившем для развития иконографии Иерусалима. После кончины Реувена Рубина и Людвига Блюма традиция иерусалимского городского пейзажа никогда более не занимала видного положения в израильском искусстве. Как ни удивительно, но и в Израильском музее невозможно найти ни одного пейзажа с видом Иерусалима, который был бы создан кем-либо из местных художников за все годы государственности; в это сложно поверить, но это так.
Сложилась довольно парадоксальная ситуация: едва ли не лучшие пейзажи Иерусалима на протяжении всей истории израильской государственности были созданы живописцами, прибывшими в эту страну уже зрелыми художниками. На иврите, языке идеологически отнюдь не нейтральном, иммиграция в Израиль называется алия (в дословном переводе – «восхождение»). Учитывая, что Иерусалим располагается на высоте 800 метров над уровнем моря, дорога в этот город из Тель-Авива, занимающая на автомобиле или поездом всего около часа, характеризуется тем же словом – алия ле’Йерушалаим [«восхождение в Иерусалим»]. Однако подавляющее большинство жителей Тель-Авива (отнюдь не только художники) этого совершенно не ощущают. А рынок недвижимости (жилье в Тель-Авиве в среднем вдвое дороже аналогичного в Иерусалиме) укрепляет их в правоте своих ощущений.
Напротив, среди тех, кто оставил позади очень многое, как в переносном, так и в прямом смысле, покидая Польшу, Румынию, Венгрию, Советский Союз, Германию и другие страны и принимая решение связать свою жизнь с Иерусалимом, было немало людей, кто сердцем ощущал это «восхождение». Именно художники-иммигранты, причем прибывшие не детьми и подростками, а уже сложившимися мастерами, в своем стремлении постичь Иерусалим, доставшийся им столь дорогой ценой, на протяжении многих десятилетий создавали самые вдохновенные и лиричные пейзажи этого удивительного города. Они успевали написать его даже в один из тех редчайших дней, когда он оказывался покрытым снегом. Своим творчеством эти люди объясняли и себе, и окружающим сделанный ими выбор. К Иерусалиму они относились с тем благоговением, которого в принципе не могли понять израильтяне, выросшие и живущие в разных городах своей страны.
Но, говоря начистоту, сколько ни повторяй мантр о «едином и неделимом» Иерусалиме, с социально-демографической точки зрения он таковым не стал до сих пор. Иерусалим, по сути, представляет собой федерацию трех разных городов, районы которых расположены друг с другом в шахматном порядке, но так и не сформировали единое целое.
Во-первых, Иерусалим – крупнейший ортодоксально-религиозный иудейский город Израиля (с населением около трехсот тысяч человек). Во-вторых, Иерусалим – крупнейший арабский город Израиля (примерно с таким же количеством населения). И в-третьих, Иерусалим является городом, представляющим срез всего остального населения Израиля: в нем живут выходцы из разных государств, более или менее обеспеченные, более или менее соблюдающие заповеди иудаизма и имеющие весьма разные предпочтения в сфере культуры. Являясь столицей Израиля, Иерусалим в значительной степени остается «государством в государстве». Состоятельные жители северного Тель-Авива нередко признаются, что посещают Иерусалим реже, чем Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Для многих художников-иммигрантов Иерусалим был и остается основной причиной их приезда в Израиль: в образе этого города они видят символ Израиля, загадку, которую стремятся разгадать. Пейзажи Иерусалима почти не напоминают им те, среди которых они выросли, а потому влекут их, побуждая запечатлеть на холстах, листах картона и бумаги.

Яаков Эйзеншер – Врата в Старом городе, Иерусалим (холст, масло, 61×46 см). Частное собрание, экспонируется на выставке
Художники, о чьих произведениях пойдет речь далее, родились в разных европейских странах. Достаточно взглянуть на биографии живописцев, работы которых экспонируются на настоящей выставке в Музее им. Моше Кастеля в Маале-Адумим. Яаков Эйзеншер родился в Черновцах на Буковине, которая входила тогда в состав Австро-Венгерской империи; Авраам Биндер – в Литве, входившей тогда в состав Российской империи; Йосеф Теппер и Шмуэль Харуви – на Украине, когда она входила в состав той же империи, а Иосиф Островский, Аркадий Лившиц и Иосиф Златкин родились на Украине, когда она входила в состав Советского Союза. Юлиус Йотам Ротшильд появился на свет в Германии; Зеэв Рабан, Эльханан Хальперн и Пинхас Шаар – в Польше; Мордехай (Мотке) Блум и Барух Эльрон – в Румынии; Давид Ракия – в Австрии; Зеев Кун – в Венгрии; Валерий Куров и Лера Барштейн – в России; Петр Глузберг – в Молдавии; Илья Хинич и Андриан Жудро – в Белоруссии. За исключением Эльханана Халперна и Давида Ракии, которые иммигрировали в возрасте семи и десяти лет соответственно и получили художественное образование в Израиле, все остальные в разные годы связали свою судьбу с еврейским государством, будучи уже сложившимися живописцами. Их художественный стиль сформировался задолго до переезда в Израиль. Стилистически это очень разные живописцы, а потому и их посвященные Иерусалиму картины тоже разные. Однако в их творчестве нет ни следа того «иудейского ориентализма», который отличал работы основоположников «бецалельского» стиля в 1906–1929 годах.
Сформировавшаяся к концу ХХ века израильская иконография Иерусалима очень плюралистична. И в Книге книг художники видят не сборник религиозных догматов, а выдающийся литературный памятник историко-культурного наследия. Далеко не все эти живописцы жили в Иерусалиме постоянно. Скорее напротив: за исключением Зеэва Рабана, Мордехая (Мотке) Блума, Вениамина Клецеля и Аркадия Лившица, остальные художники жили в других городах Израиля, однако их путь в еврейское государство был, прежде всего, путем в его древнюю и вечную столицу. В отличие от большинства художников – уроженцев Израиля, они видели Иерусалим, а не Тель-Авив, духовным центром своего бытия.
Невозможно поэтому говорить о какой-либо сформировавшейся художественной традиции изображения Иерусалима. Каждый мастер пишет свой собственный образ этого Великого города. По не совсем понятным причинам подавляющее большинство писавших Иерусалим художников словно не замечали ни обыденной жизни сотен тысяч горожан, ни каких бы то ни было проблем во взаимоотношениях между ними, игнорируя даже арабо-израильский конфликт, постоянной ареной которого остается столица Израиля. Если же эти темы и затрагиваются, то опосредованно и иносказательно. На большинстве полотен, изображающих Иерусалим, людей совсем или почти совсем нет. А когда они все же присутствуют, их роль сводится исключительно к тому, чтобы еще более усилить чувство подъема к сакральной вершине.
Напрашивается мысль о том, что масштабы Иерусалима в глазах художников-иммигрантов столь уникальны, огромны, непостижимы, что обычный человек не соотносим с ними. Поэтому художники не сочли нужным «заселить» горожанами и туристами не только произведения, запечатлевшие великий город ночью, но и картины, изображающие Иерусалим в солнечный день. При этом образы Иерусалима на этих холстах вполне реалистичны, и люди там буквально напрашиваются, – но все же их там нет. А поскольку речь идет о произведениях, созданных на протяжении многих десятилетий мастерами, работавшими в разных художественных стилях, никак не влиявшими друг на друга, то эта особенность иконографии Иерусалима никак не может быть случайной.
Некоторые художники писали Иерусалим таким, каким никогда не могли его увидеть в реальной жизни. Иосиф Златкин (1946–2013) создал целый цикл работ, озаглавленный «Стены Иерусалима», только стены на его полотнах, переливающиеся всеми цветами радуги и порой просто парящие в воздухе, бесконечно далеки от тяжелой, монументальной крепостной громады, воздвигнутой еще в XVI веке из золотисто-бежевого известняка. Даже запечатлевая реально существующие объекты, Иосиф Златкин придавал им фантастический колорит, из-за чего эти стены и ворота почти невозможно узнать. Несмотря на очень непростые обстоятельства жизни самого Иосифа Златкина, он всегда наполнял великий город праздничным ликованием. Его Иерусалим, как и тот, который оживает на полотнах Менухи Янкелевич, – это город свадеб, торжеств и веселья.
Более того, многие живописцы, создавая посвященные Иерусалиму полотна, сознательно «инкрустировали» их теми или иными символическими компонентами, призванными еще сильнее подчеркнуть уникальный характер этого города. Великолепные произведения, созданные Пинхасом Шааром и Давидом Ракией (и в этом они, кстати, похожи на Моше Кастеля), – одни из самых ярких примеров такого рода. Их работы – словно мост от былой славы еврейского народа к его многообещающему будущему. В этом они видели символическую победу над всеми гонителями еврейского народа, от Навуходоносора до Гитлера (а в огне Холокоста погибли почти все члены семей этих художников). Так городской пейзаж превращался в квинтэссенцию нескольких тысячелетий национальной истории.

Давид Ракия – Четыре матери (холст, масло, 88×130 см). Собрание наследников художника, экспонируется на выставке
На этой выставке представлены пятьдесят восемь картин, что соответствует количеству лет, в течение которых объединенный Иерусалим является столицей Государства Израиль. В общих чертах выставка разделена на две части: половина работ была создана художниками, которых уже нет в живых, но которые вошли в пантеон израильского искусства (включая Зеэва Рабана, Людвига Блюма, Исаака-Александра Френеля, Шмуэля Харуви, Яакова Эйзеншера, Давида Ракию, Авраама Биндера, Одеда Бурлу, Эстер Лурье и многих других); в то время как другая половина состоит из работ наших ныне живущих современников.

Ципи Цигле – Тогда и сейчас. Наш вечный Иерусалим (х., м., 70×90 см). Собрание художницы, экспонируется на выставке
На настоящей выставке представлены и произведения двадцати художников, которые продолжают работать и поныне, обогащая своим творчеством ландшафт израильского искусства. Однако тот факт, что все они – наши современники, не следует понимать как принадлежность всех их к одной художественной группе; не стоит искать в их работах и какую-либо стилистическую общность. Скорее, все обстоит как раз наоборот: их индивидуальное видение Иерусалима сильно различается; каждый из них фокусируется на различных аспектах прошлого и настоящего города, а их работы отражают традиции разных художественных школ и направлений.

Валерий Куров – Иерусалим, 2019 г. (холст, масло, 70×60 см). Частное собрание, экспонируется на выставке
Ципи Цигле и Валерий Куров решили отправиться на столетия и тысячелетия в прошлое, создавая не пейзажи, а символические картины, связывающие настоящее с древней историей, которая, возможно, далека от нас, но от этого не менее значима. Яркий пример этой же тенденции можно увидеть в работах Мали Ласкер, создавшей диптих о невероятно сложной, почти невозможной любви к Иерусалиму и в Иерусалиме. Это история любви еврейского юноши, родившегося в Израиле, и иностранки, приехавшей в Иерусалим, вдохновлённой всемирно известными фотографиями мечетей на Храмовой горе, но впоследствии увидевшей – сквозь призму обретенной любви – совершенно иной еврейский Иерусалим; песня «Каланийот» [«Анемоны»], исполненная Шошаной Дамари и ставшая почти народной в Израиле, проникла в самые сокровенные тайники сердца этой девушки, свидетельство чего – цветок на ее груди.

Мали Ласкер – Запретная любовь в Иерусалиме (диптих, холст, масло, каждая часть – 60×50 см). Собрание художницы, экспонируется на выставке
В то время как Дан Ливни, Яэль Нойвирт и Амихуд Грин подчеркивают архитектурное и символическое единство Старого города, окруженного и защищенного его массивными стенами, художник-импрессионист Петр Глузберг изображает тот же Старый город легким, почти воздушным, словно парящим и купающимся в лучах солнца. Яаков Гильдор создал масштабный панорамный коллаж из девяти полотен, которые, соединенные вместе, демонстрируют, что целое гораздо больше суммы своих частей; как и работы многих других художников (от Исаака-Александра Френеля до Андриана Жудро), в центре его панорамы – золотой Купол Скалы на Храмовой горе. Напротив, великолепная панорама Иерусалима, созданная Одедом Фейнгершем, намеренно обходит стороной мечети Храмовой горы; его картина задумана как панорамное изображение нового города, который в значительной степени был построен усилиями еврейских иммигрантов на протяжении последних ста пятидесяти лет.

Петр Глузберг – Цитадель Давида, 2008 г. (холст, масло, 45×50 см). Частное собрание, экспонируется на выставке
Прибыв в Иерусалим, Менуха Янкелевич сразу же направляется к Стене Плача; Феликс Портнов бродит по узким улочкам Старого города; а Андриан Жудро покидает его стены, направляясь на Масличную гору и спускаясь к гробнице Авессалома. Другие художники, напротив, полностью избегают Старого города, и на их полотнах его нет: так, Иехуда Армони выбрал запечатлеть улицу в Немецкой колонии, а также монастырь Святого Креста и Музей Израиля; Лера Барштейн (как и покойный Вениамин Клецель) отправилась в Нахлаот, один из старейших районов, но все же – Нового Иерусалима; а Лиза Кейн Хаммерман приглашает зрителей в район Кирьят-Йовель. Веред Харуш пишет ближайшие окрестности Иерусалима, которые, казалось бы, не изменились с библейских времен, а Илья Хинич представляет многоцветный и многоликий Иерусалим во всем богатстве его прошлого и настоящего религиозного плюрализма. Собранные на настоящей выставке в Музее им. Моше Кастеля в Маале-Адумим вместе, эти картины создают всеобъемлющий портрет этого великого города, аналогов которому нет больше нигде в мире.
Выставка «Наша вечная столица: Иерусалим в израильском искусстве» продлится в Музее им. Моше Кастеля до 20 августа 2025 года
Музей им. Моше Кастеля открыт по воскресеньям, понедельникам, вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, по средам – с 12.00 до 20.00
Адрес: Ул. Ха’Хацоцра 23 Маале-Адумим
Сайт Музея им. Моше Кастеля – https://castelmuseum.co.il/he/
Фейсбук-страница – https://www.facebook.com/moshe.castel
Статья подготовлена при поддержке Еврейского общества поощрения художеств