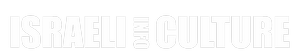Заглавное фото: Галина Зернина. “Прогулки и диалоги”
«Изображение сделалось для нас не просто формой – оно стало миром.
Мир сделался образом»
Жан Люка Марьон, «Перекрестья видимого»
Текст – © Елена Шипицына (Российско-израильский арт-критик, независимый куратор международных проектов современного искусства, арт-журналист, в прошлом галерист, арт-директор Екатеринбургской галереи «Синара-Арт» 2015–2019).
Статья публикуется в рамках сотрудничество нашего сайта с журналом “Тайные тропы”. Более подробно о журнале “Тайные тропы” можно прочитать в конце текста.
Я с детства боялась фотообъектива.
Во-первых, надо было не моргать, не двигаться, держать голову прямо и при этом еще улыбаться. Приобщить меня к магии фотопечати тоже не получилось, потому что в ванной комнате было темно, тесно, горел красный свет, и как только начиналось самое интересное – появление изображения на влажной поверхности фотобумаги – мне захотелось вытащить листок из раствора и рассмотреть его поближе. Оказалось, что тоже нельзя: вся картинка на глазах потемнела, изображение исчезло безвозвратно… Я думаю, поэтому я рано научилась рисовать: в рисунке всегда можно было исправить непонравившиеся детали, стереть и добавить, покрасить и перекрасить, и не страшно ошибиться.
Ну, а во-вторых, я никогда не узнавала себя на снимках. Это всегда был кто-то другой, а моя лицо куда-то ускользало из кадра. Не любила я этих ускользаний реальности. И с детства меня мучил вопрос – что же такое происходит с реальностью в темном зрачке фотообъектива? Наверное, поэтому я позже стала дружить с фотографами и задавать им вопросы, на которые не получила ответов в детстве.
Галина Зернина как раз такой мой «заслуженный собеседник» – российско-израильский фотохудожник, литератор и поэт. Поэтому говорить с ней о фотографии интересно и увлекательно, как совершать новое путешествие. «Моя фотография никогда не бывает абсолютно точной, – говорит мне Галя, – это мой особый способ всматривания в реальность. Поиск кадра для меня состоит в том, чтобы передать в нем многомерность целого мира.»
Подобная оптика восприятия мира не удивительна, ведь все творчество Галины Зерниной – своеобразный фото-диалог с любимыми поэтами: Цветаевой, (Ахматовой, Мандельштамом) – не знаю, насколько принципиально, но с ними не работала, если только в воображении, скорее Аронзона можно назвать), Бродским… Да и беседа наша произошла как раз в таком многомерном пространстве её фотовыставки в Иерусалиме, посвящённой метафорическому диалогу двух ленинградских поэтов – Леонида Аронзона и Александра Альтшулера. Оба поэта принадлежали к общему кругу ленинградского поэтического андерграунда 1970-х, ценили Мандельштама и Хлебникова, общались с Бродским и Нейманом, с детства дружили, вместе сочиняли и посвящали друг другу стихи…
- Галина Зернина. “На единой волне”
- Галина Зернина. “Питер. На единой волне”
- Галина Зернина. “Прогулки”
Александр Альтшулер пережил своего друга более чем на 40 лет, но оставался с ним в творческом диалоге и после его трагического ухода из жизни в 1970-м, и после своего переезда из Ленинграда в Иерусалим в 1993-м. Галина Зернина ведет с ними свои мысленные диалоги, похожие на совместные прогулки по родным ей питерским дворам и набережным Невы. Иллюзию такой прогулки создает и архитектура выставочного зала иерусалимского Дома Качества с его арочными сводами и протяженным экспозиционным пространством. Экспозиция выставки, плавно рифмующая блоки черно-белых фото с фрагментами поэтических текстов, вовлекает зрителя в неспешный ритм прогулочного шага и внимательного вчитывания в поэтические строфы и вглядывания в каждую деталь кадра как единого художественного ландшафта.
Г.З.: «Мои работы – не иллюстрации к текстам, это самостоятельный текст, отклик на поэзию, ведущую диалог голосами, сердцами, интонацией обоих поэтов.»
«А почему нет названий фото? Только поэтические строфы рядом…» (Названия – называние накладывают ограничения, создают рамку, привязывающее снимок, коллаж к конкретике. А это опять ограничение. А поэтический текст – это поток, для Аронзона и Альтшулера – это переплетение…)
Г.З.:«Я сознательно избегала разделения поэтических потоков по авторам. Читая их тексты вперемешку, я невольно ощущала присутствие единого поэтического пространства. В моем восприятии они соединяются. Поэзия (их двоих) обоих поэтов выстраивается в моем сознании во вневременной диалог. Это единство разнообразия я постаралась выразить в сериях фотоколлажей.»
Определить жанр фотографий Галины Зерниной непросто. Галина – филолог, и по ее словам, она занята не столько фотофиксацией явлений жизни, сколько метафорической «визуализацией литературного образа». Такой вот лингвистический кульбит получается: визуализация вербализованного воображения поэта, фотометафора метафоры поэтической.
- Галина Зернина. “Наоми”
- Галина Зернина. “Вопрос”
- Галина Зернина.”О времени”
- Галина Зернина.”В дымке пейзажа”
« Я филолог, (а это уже угол зрения)как видно, я так вижу. Ничего не могу с собой поделать: где бы я не была в своих путешествиях, у меня постоянно возникают поэтические ассоциации. Карлов мост в Праге – это Цветаева, фонарь в Венеции – Бродский, питерская набережная – Аронзон… Меня завораживает такое проявление поэзии сквозь реальность. Вопрос в том – как передать в кадре эту поэтическую многомерность мира? Иногда получается мир в одной картинке. Но больше всего меня подкупает, когда я беру несколько кадров и, совмещая их, ловлю состояние, когда один мир проявляется сквозь другой. А иногда этот эффект вижу прямо в пространстве.»
И действительно, вглядываясь в работы Галины, начинаешь видеть наслаиваемые друг на друга миры, просвечивающие сквозь первый план первоначального «сюжета». Возникает иллюзия происходящего прямо на наших глазах процесса проявления фотоизображения. Свет плюс ракурс помноженный на фокус зоркого глаза объектива в руках думающего фотохудожника дают в результате метафору светописи. Это интересное свойство оптики восприятия Галины Зерниной проявляется в том, как чутко она работает с цветом и светом, предпочитая нюансы контрастам и структурируя кадр как некое метапространство. Её эксперименты с двойной экспозицией, игрой светотени преследуют единственную цель – обнаружение в банальных явлениях повседневности небанальных ассоциаций с поэтическими смыслами. С лингвистической точки зрения наш мир – система знаков. В кадрах Галины Зерниной знаки явленного мира ложатся в «тексты» художественного фото, разворачиваясь в контексты целых фотопоэтических циклов. В них фотография – не способ фиксации события или эффектная документация явлений действительности, а средство формулирования авторского ощущения изменчивой фактуры времени.
«Камера видит больше, чем глаз – почему бы это не использовать!» Эта остроумное замечание принадлежит знаменитому американскому фотографу-авангардисту прошлого века Эдварду Уэтсону, энтузиасту экспериментов с ракурсами съемки и многократными экспозициями. Следуя принципу «свободного видения» автор как будто самоустраняется и позволяет объективу своей камеры свободно «бродить» в поисках сюжета, подобно расслабленному взгляду человека. Именно тогда и возникает тот самый фокус преображения реального явления в символику фотометафоры.
С точки зрения природы творческого процесса подобные практики просто необходимы – в них рождаются новые идеи и возникают языковые находки. У Александра Альтшулера есть строчка об этом тайном состоянии творческой души: «Тайноведение природы улыбнулось искусством». Галине Зерниной это состояние хорошо известно, не случайно она избрала эту фразу поэта заглавием своей выставки. В состояниях таких блужданий «свободного взгляда» рождались её ранние фотосерии «Жизнь черно-белого квадрата», «Прогулки и сны». В этих черно-белых опусах она импровизировала с оппозициями пустота и материя, смещая перспективу и игнорируя законы гравитации в поисках образа открытого пространства. В них проявилось интереснве? (интересное) свойства оптики восприятия Галины – чуткая работа с цветом и светом, предпочтение нюансов контрастам, рифмование деталей с пустотой. Эти приемы сложились в самостоятельную авторскую лексику, выразившуюся позднее в больших фотографических циклах по стихам (его не было!Тарковского), Бродского, Цветаевой, где цвет возникает в контексте чёрно-белых интерьеров и пейзажных пространств как вспышка озарения смысла строфы. Или символическое свечение предметов-смволов… Её эксперименты с многократной экспозицией и внутрикадровым монтажом напоминают мне работу гравёра, постепенно углубляющего рельеф офортной доски и последовательно наслаивая на лист оттиски новых «матриц».
«Когда меня спрашивают, как я подбираю кадры для своих многократных экспозиций – я не могу ответить «как». Потому что иногда тебя сам текст ведет, его ритм. Ты берешь фотографию, начинаешь в нее всматриваться, менять что-то местами, наслаивать друг на друга, добавлять что-то еще – и возникает образ, который неуловимо в поэзии есть, на уровне намека. Иногда рождается в этих коллажах то, чего и сам не ожидаешь. Это похоже на то, как высвечивается изображение на пленке. Если пристально вслушиваться и всматриваться в поэтические тексты, то в воображении возникают удивительные метафоры — словно параллельное пространство вдруг распахивается перед тобой.» (Иногда образ, который я уловила, не дает мне покоя очень долго, я его почти вижу, почти, но он ускользает. И начинается охота, поиск, только очень нежно, иначе все потеряется. Нужно опустить внутрь и отпустить, дать проявиться, это сложно. Когда готовила проект о своей безмерно любимой Марине Цветаевой, руки опускались – невозможно, в ужасе начала рисовать, пошла на занятия акварелью, но…. Хотя до сих пор не оставляет идея соединить фото и рисунок, иногда прорисовываю фотографию или коллаж, важен эксперимент, даже если результата нет, идея реализуется.)
Слушая Галю, я вспомнила фразу Юрия Лотмана о расширяющихся смысловых полях литературных текстов: «Каждый большой текст больше своего автора». И поняла, что обращаясь к текстам больших писателей Галина Зернина сама погружается в расширяющееся пространство метафорических образов и вовлекает зрителя в этот процесс прогулок по метафорическому ландшафту.
«А знаешь, возможно мир поэзии – это вообще единый ландшафт общения душ. Во всяком случае эта метафора «пейзаж души» встречается и у Бродского, и у Аронзона, и у Альтшулера. У каждого он свой, этот внутренний пейзаж. У Аронзона это такое питерское молчаливое созерцание, «пейзаж для чистых дум»:
«Таков был этот вид – пейзаж души:
Кольцо трамвая, мост через канал,
Пустырь, репейник и затем стена,
Стена без окон, на которой сад тянулся вверх…»
У Альтшулера – преображение в общении:
«Пейзаж общения душ,
Принявший форму дерева и фразы.»
- Галина Зернина. “Наоми”
- Галина Зернина. “Взгляд”
В таком ракурсе творческого поиска оказывается, что интонация поэта важней поэтического нарратива, а фотоинтерпретация образа важней фотодокументации сюжета. Следуя этому принципу и чутко вслушиваясь в интонацию этого поэтического диалога, Галина Зернина создает свои ассоциативные полимпсесты из пейзажных мотивов Ленинграда и Иерусалима, силуэтов лиц, полетов птиц и ритмов текстов, структурируя кадр как некое вибрирующее светом метапространство с эффектом миража и постепенного проявления образа. Как если бы сама была очевидцем рождения поэтических строф из словесного шума городской повседневности.
«У меня реально было чувство присутствия, ведь мне повезло работать над выставкой вместе с женой Александра Альтшулера – художником Галиной Блейх. Она и есть очевидец и живой проводник в ту атмосферу диалога поэтов, их обмена образами, игру рифмами… Поэтому образ отражений проходит через всю серию как эхо их совместных прогулок и разговоров. Знакомство с Галей – большая удача. Я сейчас под впечатлением второй подобной встречи – меня в Италии познакомили с Лорой Гуэрро, женой Тонино. Она меня посадила в кресло Тонино, и я попала в какое-то другой пространственное измерение.»
«О, мне кажется это очень важное переживание – соединиться с поэтом в пространстве. Посмотреть вокруг с его ракурса – что открылось твоему взгляду?»
«Кресло стояло напротив окна и из окна открывалась долина. Ярко зеленая. Тонино вообще для меня цвет в отличие от Аронзона и Альтшулера. Гуэрро – это полнота жизни, со всеми её испытаниями. И конечно рисунки его бабочек. Для него это символ жизни после нацистского лагеря. Вспоминается пронзительность его слов: «Более всего я был счастлив, когда после освобождения из плена я смог смотреть на бабочку без желания ее съесть.»
«У Гуэрро есть и про долину, прекрасные слова: «Когда я подхожу к окну и смотрю на открывающуюся зеленую долину, я вижу что-то своё, то, что хочу видеть. Часто вижу Россию.» Мне это напомнило зеленую долину его сценария моего любимого фильма Антониони «Фотоувеличение» (1966). В последней сцене герой фильма – модный фотограф, уставший от гонки индустрии рекламного фотобизнесса, оказывается случайным зрителем, того, как бродячие актеры разыгрывают пантомиму игры в тенис на загородном корте. И вглядываясь в их беззвучные движения, он вдруг начинает слышать звук удара отсутствующего меча о поверхность невидимых ракеток. Воображение – путь желаемого будущего в реальность настоящего.»
«Да, у Тонино свой пейзаж души, он цветной и теплый, в отличие от туманного Питера. И Россия для него это Москва, а она цветная.»
Разговаривая с Галей я почувствовала, что меня как будто пустили, наконец, в фотолабораторию и разрешают все трогать и близко рассматривать. И увидеть, что действительно реальность может двоиться, если смотреть на неё с разных ракурсов. А ошибка печати может стать творческой находкой и открыть новый взгляд на факт прожитой жизни. Просто мир при взгляде на него сквозь линзу фотообъектива пересоздаётся в новые структуры пространства. И чем пристальней мы вглядываемся в его изменчивость, тем лучше можем разглядеть себя.
Весь фокус – в ракурсе.
*****
«Тайные тропы» – классический литературный международный журнал в обстоятельствах XXI века
В журнале публикуются разножанровые произведения: большая и малая проза, поэзия, драматургические произведения, литературоведение, литературная и художественная критика, работы по философии. Это – оригинальные материалы. Статус «Тайных троп» – «журнал литературы и искусств русскоязычного мира».
Журнал выходит сначала в Сети (https://www.secrettropes.com/), а затем в бумажном варианте.
Автором идеи издания журнала и его названия стал саратовский журналист и писатель Владимир Горбачёв. «Манифест» журнала можно посмотреть в 1-м номере, появившемся в Сети 11.04.2022, № 2 – 04.11.2025. В 2023 году вышло ещё 2 номера, в 2024-м – 4. В 2025-м № 1 (9) вышел 04.03.2025, № 2 (10) – 04.06.2025. в начале сентября должен выйти № 3 (11).
Список авторов насчитывает более 130 фамилий: Бахыт Кенжеев, Светлана Кекова, Николай Кононов, Алексей Слаповский, Ирина Горелик, Игорь Губерман, Алекс Тарн, Андрей Бильжо, Виталий Комар, Шмуэль Анатолий Шелест, Саша Окунь, Александр Косолапов, Вера Павлова, Ирина Евса, Иван Стависский, Михаил Король, Ольга Бугославская…
География: Россия, Израиль, США, Канада, Украина, Германия, Франция, Италия, Австралия, Сербия, Чехия, Финляндия, Молдова, Болгария – русскоязычный мир, страны, где живут люди, говорящие и творящие на русском языке.
Особое внимание в “Тайных тропах” уделяется живописи (фотоискусству). Номер оформляется работами одного мастера. Каждый материал предваряется разворотом с иллюстрацией, на её фоне дана на следующей странице биография автора (отдельно отметим, что подробно даём информацию об авторе с фото, текстом-биографией, который автор пишет сообразно своему настроению). И все эти, а также дополнительные художественные работы собраны в отдельном материале, сопровождаются либо статьёй самого художника, либо интервью с ним, рецензией, художественной критикой. То есть художник, фотомастер – не вспомогательный, оформительский «элемент», а один из равноправных авторов.
Проводятся презентации вышедших номеров. В последнее время их местом стал Центр наследия Менахема Бегина в Иерусалиме. Презентация 2-го (10-го) и 3-го (11-го) номеров состоится 5 октября.
Барух-Александр Плохотенко, главный редактор журнала “Тайные тропы”